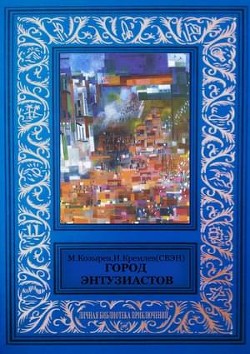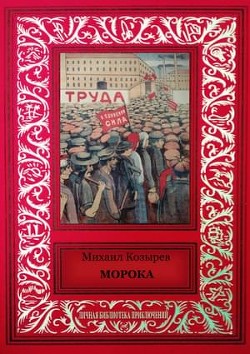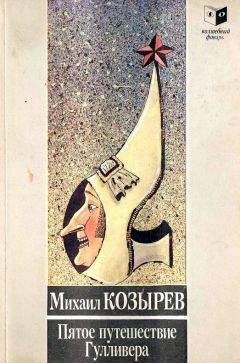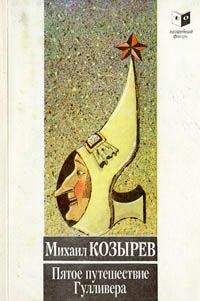– Да что с тобой? Влюблен что ли?
Нет ничего неприятнее встречи со старым товарищем или другом твоего беспечального, как говорится, детства. Давно ли кануло оно в вечность, это беспечальное детство, чтобы только изредка вернуться во сне в виде старого учителя чистописания, который стоит будто бы над твоей партой и, помахивая в воздухе длинным, корявым испачканным чернилами пальцем, будто бы говорит тебе:
– Бобров, ты опять на тетрадку кляксу поставил. Встань в угол, Бобров!
И будто бы ты, сконфуженный, злой идешь в угол, и в спину тебе негромко смеются твои товарищи и друзья твоего беспечального детства.
Как сладко очнуться от этого сна и сладко, очнувшись, вспомнить, что для тебя уже невозвратно прошла эта золотая пора твоей жизни. Ты уже чёртом смотришь на всех с высоты твоего партийного ли, общественного ли величия, и вот откуда-то появляется ферт, может быть – в прорванных на коленях штанах, может быть – с незавидной репутацией человека, слишком вольно относящегося ко вверенным его попечению народным суммам, и называет тебя Мишкой или Сашкой или Юркой, когда ты давно Юрий и даже Степанович, хлопает покровительственно по плечу и даже напомнит:
– А помнишь, Юрка, как мы с тобой вместе яблоки воровали?
Или, немножко подумав, скажет:
– А помнишь, как тебя батя из алтаря за ухо вывел?
И тебе нечего ответить на это – ты должен мило улыбнуться, ты должен, может быть, расцеловаться с ним – со старым другом твоего беспечального детства.
Так именно и отнесся Бобров к этой встрече – даже расцеловался с Алафертовым.
– Слыхал о тебе, слыхал, – начал Алафертов, – город задумал строить.
Боброву казалось, что эта мысль – достояние очень и очень немногих, и удивился, каким образом дошла она до Алафертова.
– Да что ж – поговаривают. Я знаю тебя, Юрка. Мы еще в гимназии говорили – вот этот далеко пойдет. Кто о твоих талантах не знает.
– Никакого города я не собираюсь строить, – резко оборвал Бобров: – кто это тебе наболтал?
– Ну, не собираешься. Никогда не поверю. Ты – и вдруг не сделаешь чего-нибудь такого… Только чур – обо мне не забывать. Ну, хоть управделом возьми – не подведу. Ты знаешь – ведь я тоже могу быть полезен.
Что же оставалось ответить на это хотя и нескромное, но дружеское предложение? Отказать, – а вдруг вся затея кончится крахом, – и он только напрасно обидит друга своего детства.
– Посмотрим, – ответил Бобров. – А ты что сейчас делаешь?
– Что ж я могу делать, – скромно ответил Алафертов: – мы с неба звезд не хватаем. Перебиваюсь с хлеба на квас…
По внешнему виду Алафертова и по его костюму трудно было предположить, что он перебивается с хлеба на квас – его лицо говорило скорее об упитанности, а никак не о нужде.
– Мог бы для себя и получше работу придумать, – насмешливо ответил Бобров.
– Где нам! Я ведь не то, что ты. Ты – гений. А мы любим на готовенькое, так-то легче… Я тебе говорю, – звезд с неба не ловим. Ты, небось, когда на девочку смотришь, глазки примечаешь, а мы на ножки смотрим… Кстати, – что ты сидишь тут каким-то отшельником, – неожиданно перешел Алафертов на другую тему: – хочешь я тебя с девочками познакомлю. Преотличные есть экземпляры. Ахнешь! В Москве таких нет.
Алафертов сложил два пальца и смачно поцеловал их.
– Или тебе не до них? Великими делами занят?
Самое злое, что может придумать человек, чтобы оскорбить другого, – это высказать другому в несколько иронической форме самые его затаенные мысли. Ведь он, Бобров, только-что думал о своих проектах, как именно о великих, только-что хватал с неба звезды – и вдруг он то же самое слышит – и от кого? От Алафертова!
– Нет, почему же занят, – оскорбленно ответил он: – я свободен. Познакомь.
– Знаю, что ты большой любитель. Помнишь, как тебя на Гребешке мальчишки побили?
Бобров пропустил мимо ушей последнее, уж чересчур бестактное, замечание своего товарища. Да и чего еще, кроме бестактностей, ждать от друзей далекого детства? Но Алафертов тотчас же сам заметил бестактность и постарался замять.
– А Мусю помнишь? Ведь она тоже здесь.
Это воспоминание оказалось для Боброва более приятным, чем воспоминание о Гребешке.
– Ну? Неужели? Что она теперь? Замужем?
– Этого мало сказать. Ты помнишь ее? Хорошо помнишь? Тоже особа, можно сказать, гениальная. Важное лицо…
Боброву вспомнилось: белокурая головка, с чуть вздернутым, покрытым веснушками носиком, задорные глазки живой и веселой девочки – героини обеих гимназий, некогда покорявшей сердца не столько красотой, сколько живостью и некоторою вольностью в обращении. Скольких стоило трудов, чтобы овладеть сердцем своенравной кокетки, вечно окруженной поклонниками. Вспомнилось ему и то, что, добившись ее очевидного расположения, он неожиданно для нее стал избегать встреч с нею – и только потому, что какая-то Люся – брюнетка и большая жеманница затмила свою излишне развязную соперницу. II этот образ и эти воспоминания мало вязались со словами «большое лицо».
– Им это просто – не то, что нашему брату. Глазками так, глазками эдак – и всеми делами вертит. Неужели ты ничего не знаешь?
Недавно приехавший из столицы Бобров не имел времени, а по правде, и желания знакомиться с городскими сплетнями. Теперь эти городские сплетни обрушились на него из уст Алафертова, оказавшегося весьма осведомленным в подобного рода делах.
– Она тут у нас всех закрутила. Товарищ Лукьянов – губернатор здешний – с женой из-за нее развелся. Днюет и ночует у нее. Да, что там – у нее еще сорок человек и все друзья-приятели. Ты понимаешь – в ней это всегда было. Самая современная женщина – femme publique – принадлежит всем и никому в частности. Какое дельце обтяпать – иди к ней, живо обмозгует.
Только не даром – даром она не любит… Хочешь, я тебя к ней сведу? Ты ведь ее старый друг, тебя-то она, наверное, помнит…
Бобров не раз и до того слышал имя какой-то Марьи Семеновны или Марьи Николаевны, о которой рассказывали в подобных же приблизительно выражениях, но он никогда не решился бы отождествить образ этой женщины с полузабытым образом Муси. А теперь неожиданно оба эти образа соединились в один и, что странно, взаимно освещали и дополняли друг друга.
«Большое лицо!»
Муся, та самая Муся, которой когда-то он пренебрег, – большое лицо! Придешь к ней, а она еще по головке погладит: «Пай-мальчик, старайся».
– Нет, не хочу, – ответил Бобров и, чтобы переменить разговор: – О каких это ты девочках говорил?
– Я и не отираюсь. Приходи сегодня в десять – все там будут. Покажу. Техникум – бывшая наша гимназия. Помнишь?
Юрий Степанович не пожелал выслушивать, что именно вздумается вспомнить из времен его гимназической жизни старому товарищу и другу беспечального, как говорится, детства.
– До свиданья, – оборвал он: – я спешу.
– Буду ждать – смотри, не обманывай…
Изо всех многочисленных соблазнов, коими враг стремится нарушить покой слабых сынов земли, – не есть ли первый и самый сильный – любовь? Что может быть сильнее соблазна вновь и вновь переживать томление и бред первых влюбленностей и разлук? Со стороны Алафертова упоминание о первой любви было самым ловким и самым обдуманным шагом, на пути к овладению дружбой восходящей звезды городского горизонта, каким он, вполне справедливо, считал Боброва.
Только полчаса тому думал Бобров о новом, задуманном им городе, только – что не терпелось ему как можно скорее видеть готовый, задерживаемый по неторопливости архитектора план, только-что торопил он и архитектора и медлительное время, мешавшее видеть мечту воплощенной, – и вот уже другие мысли, вот уже другие мечты заполнили нашего героя.
О чем же, спросите вы, он мечтал? Кого видел он в этих мечтах? Незнакомку, Прекрасную Даму?
– Романтика, мещанство, предрассудок.
Времена Незнакомок и Прекрасных Дам безвозвратно прошли. Бесплотная незнакомка служит кассиршей в нарпите, Прекрасная Дама продает на углу шоколад, первое свидание – цена билета в кино, за первым поцелуем – не райское блаженство, а гинекологическая лечебница или родильный приют. Цветок любви, выражаясь словами старинных поэтов, не амврозией и нектаром благоухает, – он пахнет пеленками, чадом подгорелых котлет, хлороформом, протухшей, испорченной кровью.